cover1 w.jpg
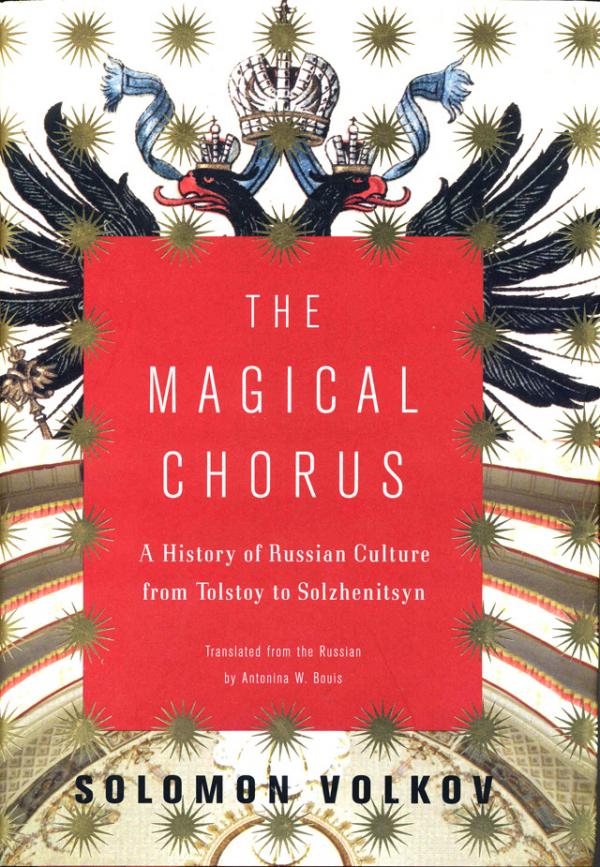
Как пишет автор в предисловии к книге, посвященной культуре XX в., специфика его подхода определилась очень давно: «Вожди и культура – этот сюжет привлекал меня еще с советского детства. Темой первой моей коллекции стали не обычные для юного возраста игрушечные солдатики или почтовые марки, а появившиеся в газетах сразу после смерти Иосифа Сталина в марте 1953 года изображения покойного диктатора с деятелями культуры, вроде писателя Максима Горького или артистов Московского Художественного театра. Вот как далеко уходят психологические корни данной работы».[2] Впоследствии изображения сменились реальными встречами. На протяжении жизни автору судьба свела Соломона Волкова с целым рядом ключевых фигур русской культуры XX в., представляющих все без исключения ее области, течения и периоды. В этом списке достаточно назвать Натана Альтмана, Анну Ахматову, Мариэтту Шагинян, Лилю Брик, Сергея Юткевича, Виктора Шкловского, Дмитрия Шостаковича, Льва Гумилёва, Марию Юдину, Мстислава Ростроповича, Андрея Вознесенского, Иосифа Бродского, Сергея Довлатова, Родиона Щедрина, Майю Плисецкую,.Юрия Шевчука. Понять культурное явление невозможно без его контекста: писем, дневников, воспоминаний, разговоров. Уникальность ситуации Соломона Волкова в том, став очным и заочным свидетелем, часть контекста русской культуры XX в. он получил из первых рук. Это в соединении с отчетливой концепцией, огромным объемом знаний в гуманитарной сфере (особую роль сыграло и то, что автор – профессиональный музыкант) и незаурядным даром слова, и заложили основу творческого процесса писателя.
Пользуясь преимуществом собеседника великих, он словно позволяет себе экстраполировать метод включенного наблюдения и на другие периоды русской культуры, а, кроме того, опирается как на структуралистскую идею культурных инвариантов, так и на герменевтику (хотя, как правило, они исключают друг друга). Основоположником последней и была открыта исключительная продуктивность диалогической формы для понимания явлений объективного духа. С точки зрения Ф. Шлейермахера, сообщение может стать текстом только при обращенности к читателю, слушателю, понимание рождается лишь при активности адресата, следовательно, диалог между автором и читателем обязателен для возникновения смысла. Диалог как способ функционирования культуры лег в основание тетралогии. Персонажи сближаются друг с другом при сравнивании в сходных ситуациях: Пушкин – Шостакович, Чайковский – Толстой, Танеев – Толстой, Тургенев – Достоевский, Пастернак – Маяковский, Пастернак – Мандельштам, Пастернак – Шостакович, Солженицын – Толстой, и т.д. Разумеется, это не бинарные оппозиции, не структуры, имеющие смысл лишь при сталкивании друг другом, однако, исходя из лотмановской мысли о том, что текст есть конденсатор культурной памяти, а культура есть единая семиотическая сфера, в которой все взаимосвязано, каждый текст отражается в других, благодаря чему обретает долгую семиотическую жизнь, Волков сопоставляет произведения разных эпох и разных искусств. Это позволяет обнаружить прежде скрытые смыслы. Писатель рассматривает личные, сексуальные драмы Пушкина, Герцена, Тургенева, Толстого, Чайковского, казалось бы, имеющие мало отношения к их культурным продуктам. Сознательно или нет, но официальную и тайную стороны жизни своих героев автор намеренно контрастирует, отчего они выглядят раздвоенными, внутренне противоречивыми. Биография, «интимные документы», страсти, имеют для Волкова большое значение, словно провозглашенная Роланом Бартом «смерть автора» его вовсе не коснулась. Кроме того, культуролог переплетает биографии героев-современников, приводя их ревнивые или сочувственные, отзывы друг о друге, стремясь показать каждую эпоху объемным, полифоническим рядом многих голосов.
cover 2 w.jpg
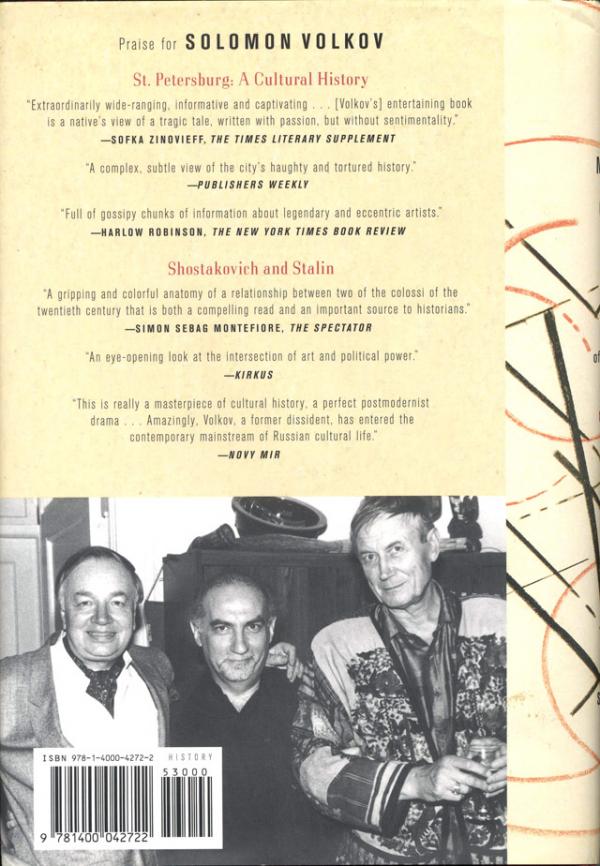
Но психология для Соломона Волкова есть, кроме того, а может быть, прежде всего, средство выявления мифа как «в словах данной личностной истории» (А.Ф. Лосев). Нельзя не согласиться с исследователем, что синтетический «”Борис Годунов” Пушкина-Мусоргского» – зеркало, «в которое Россия смотрела в моменты социальных потрясений, узнавая себя вновь и вновь»[5]. Применительно к XVII в. Георгий Федотов описал этот парадокс так: «Народ обожает царя. Нет и намека на политическую оппозицию ему, на стремление участвовать во власти или избавиться от власти царя. И в то же время, начиная от Смуты и кончая царствованием Петра, все столетие живет под шум народных — казацких — стрелецких — бунтов»[6]. Этот миф никогда не уйдет в прошлое, а всегда останется вечным настоящим, отражающим конфликт народа и власти, «земли» и государства, свободы и империи в России. Позиция автора «Бориса» многомерна и раскрывается в том, что Волков считает универсальными «масками» – летописца, юродивого и самозванца, которые примерял на себя Пушкин, а затем и Шостакович. Эти «маски» очерчивают не только круг ролей творческой интеллигенции, но и обусловливают типы отношения власти к последней. Так, приводя примеры неразрывной связи юродивого и царя, автор косвенно затрагивает и вопрос о том, что в русской культуре власть воспринималась как нечто мистическое, имеющее метафизическую природу. В противном случае цари не побаивались бы юродивых… Показательно, что точкой отсчета для Волкова стало именно воцарение Романовых, которым предшествовало Смутное время. В самом деле, жажда истины на Западе чаще всего превращалась в искание истинной церкви, в России же гораздо чаще искали подлинного царя.
Тетралогия при всем обилии переходов и перекличек между персонажами, смыслами и текстами, тем не менее, ни в коей мере не похожа на гипертекст. Хотя это кажется почти невозможным, Волков умело справляется с хором своих героев, выдерживая единую смысловую линию. В одном из интервью писатель заметил: «Меня вообще чрезвычайно интересуют взаимоотношения творческих людей с властью»[7]. В течение второй половины XX в. феномен власти, в том числе в ее взаимоотношениях с культурой, подвергался постоянному пристальному вниманию, достаточно назвать Ханну Арендт, Элиаса Канетти, Карла Манхейма, Макса Хоркхаймера, Теодора Адорно, Эриха Фромма и Мишеля Фуко. Стратегия Волкова нацелена на то, чтобы развернуть по возможности всю палитру взаимодействий культуры и власти в России. По его мнению, именно на их стыке рождается миф, при каждом обращении к нему продуцирующий новые смыслы, т.е. семиотическую сферу.
Две последние по времени написания книги выстроены в соответствии с двумя культурными подъемами «точками насыщения» (термин К.Н. Леонтьева), за которыми следовал неизбежный спад. В томе об эпохе Романовых такой «точкой» является время Николая I, а в следующем – Сталина. Вспоминается генеральная леонтьевская мысль, что чем сильнее сдерживается развитие, тем мощнее расцветает культурное явление, чем деспотичнее форма, тем ярче внутри нее созревает идея. В книге «Шостакович и Сталин: художник и царь», где теоретические позиции автора прояснены наиболее отчетливо, Волков сравнивает идеологические установки николаевского и сталинского времени, полагая, что именно «николаевская триада “православие, самодержавие и народность” пришлась Сталину как перчатка по руке, хотя он, естественно, не мог использовать эту формулу в ее первозданном виде»[8]. Волков предлагает остроумную интерпретацию уваровской триады, заменяя православие коммунистической идеологией, самодержавие – культом вождя, а народность (и это самое интересное) – социалистическим реализмом как методом «подлинно народного искусства». Тем самым, тот элемент, что был в царской России самым размытым и непонятным, а потому предполагал слишком разные интерпретации, в советское время, наконец, приобрел конкретные очертания. Так, если И.С. Аксаков в полемике с триадой (или стремясь наполнить ее содержанием) переосмысливал «народность» как «землю», противопоставляя ее «государству», и рассматривал эту пару в рамках единства противоположностей, то Волков в качестве третьего члена триады видит метод, с помощью которого должна была работать культурная сфера. В связи с этим и Чернышевский со своей мыслью о том, что «прекрасное есть жизнь», т.е. реальная жизнь народа, оказывается у Волкова неожиданным союзником как Сталина, так и Николая.
В качестве ключевых культурных событий рассматриваются в книгах Волкова единичные личные контакты политика и творца. Первая аудиенция Пушкина у Николая I (поэт вышел от царя в слезах, потому что, несмотря на фрондерство, для него власть была священна, царь же попросту «обвел его вокруг пальца»), телефонные звонки Сталина Булгакову после самоубийства Маяковского (писатель стал мечтать о личной встрече с ним), Пастернаку, когда Сталин узнал о суицидальных мыслях Мандельштама в ссылке (Пастернак оказался не готов к диалогу с диктатором, и именно поэтому всю жизнь возвращался к нему) и, наконец, Шостаковичу (в ходе разговора растерялся не композитор, а диктатор). Культуролога интересует как тонкая психология непосредственных, прямых отношений властителей и творческой интеллигенции, так и их воздействие на идеологию и культуру. Подобно описанному выше личному контакту, знаковым событием для Волкова является и смерть опасного (а когда бывает иначе?) для государства творца, нередко грозящая превратиться в политическую манифестацию. О ком бы ни говорил автор, он никогда не забывает описать смерть и похороны, всякий раз становящиеся проблемой для власти и темой для пересудов свидетелей, и важными культурными фактами для исследователя.
С тех пор, как в России сложился авторитарный тип государства, перед всяким деятелем стоит трилемма: либо следовать жестким условиям идеологических рамок, либо обречь себя на внутреннюю эмиграцию и глухонемоту, либо эмигрировать. В предисловии к своей книге «Кормя двуглавого орла» известный литературовед и культуролог А.Л. Зорин описывает два основных типа взаимодействия идеологии и культуры, две возможности диалога. В рамках первого типа идеология возникает в недрах культуры, а затем становится властно одобренной. При втором подходе, напротив, власть продуцирует идеологию, которая затем воплощается в культуре. У Волкова эта мысль высказана гораздо проще: писатели «пытались влиять на власти, в то время как власти пытались манипулировать ими»[9]. К первому подходу можно отнести взаимодействие власти с Михаилом Глинкой («Жизнь за царя») и Федором Тютчевым. Последнему принадлежат знаменитые слова: «Москва и град Петров, и Константинов град / Вот Царства Русского заветные границы». Автор обращает внимание не на лирику Тютчева, а на восторженно принятую Николаем I поэтическую версию решения восточного вопроса. Безуспешные попытки обращаться к царям с целью их «гуманизации» предпринимали Лев Толстой, Горький, Солженицын, Сахаров, словно забыв старый эпизод, когда Платон за неуместные советы сиракузскому тирану править на благо общества, был продан в рабство.
Второй подход был отчетливо выражен у Пушкина, который по заказу царя писал работу «О народном воспитании», а кроме того «Стансы» (1926), «Клеветникам России», «Бородинскую годовщину» (1831), углублялся в работы о Пугачеве и Петре Первом. Очевидно, Волкову близка позиция Георгия Федотова, для которого Пушкин после 14 декабря 1825 года стал одержим «аполлиническим эросом империи», чтил в царях «творцов русской славы и русской культуры», разочаровался в народе «как недостойном носителе свободы», одним словом, из революционера стал «свободным консерватором» в духе Карамзина и Погодина[10]. С точки зрения автора, этот, пушкинский вариант взаимоотношения с властью («диалог на равных») был взят на себя Пастернаком, которому и в самом деле удавалось выдерживать независимый тон в идеологических кампаниях и оставаться образцовым советским поэтом; в связи с этим достаточно вспомнить его выступление во время дискуссии о «формализме» в литературе в 1935 году.
Но кроме этих вариантов взаимодействия поэта и власти Волков демонстрирует множество других, оказываясь здесь поистине неистощимым. Скажем, говоря о Мусоргском, он специально останавливается на покровительстве ему главы Государственного контроля, Тертия Филиппова. Этот консерватор, единомышленник Победоносцева, очень хотел завершения Мусоргским «Хованщины» с ее центральной темой конфликта молодого Петра со старообрядцами. Опера была закончена только благодаря финансовой поддержке Филиппова, пристроившего Мусоргского на работу в свое ведомство. Интерес Филиппова к Мусоргскому, впрочем, может объясняться влиянием на министра леонтьевской идеи необходимости культурного многообразия, проявлением которого было для Леонтьева и старообрядчество. Если так, то здесь речь идет о взаимовлиянии культуры и власти.
Далее, автор отмечает совершенно нетипичную позицию Чехова, индифферентного к власти, никого никуда не звавшего, а потому не хотевшего быть ни пророком, ни юродивым. Пьесы Чехова, подобно романам Толстого, «буквально создавали новую публику». Но Волков настаивает, что постановки становились важными общественными и политическими событиями главным образом потому, что ставились в МХТ.
Между «творцом и властью» возможны и более сложные отношения, в качестве подобного диалога писатель рассматривает «Мастер и Маргариту» Булгакова. Что касается «Ивана Грозного» Эйзенштейна, то Волков уверен: вторая серия фильма была сознательным откровенным вызовом Сталину, невероятно смелым указанием власти на ее неправедность. Рассматривая кратко интереснейший сюжет связи Прокофьева и Стравинского со с неонароднической и неославянофильской идеологией «скифов», а затем и с евразийцами, автор прямо таки заставляет читателя немедленно углубиться в существующую специальную «литературу вопроса»[11].Тарковского, который в «Андрее Рублеве», как считает Волков, «не собирался ссориться со своими советскими хозяевами»[12], власть сама оттолкнула своим требованием сократить и переделать фильм. Однако, подобно Эйзенштейну, он не только не стал этого делать, но после жесткой критики «Зеркала» стал невозвращенцем, культовой фигурой эмиграции, наряду с Бродским и Шнитке. По мнению автора, «эмиграция ускорила процесс трансформации бинарной оппозиции: «”советское – антисоветское” в тернарную систему с новым элементом “несоветское”»[13].
Иногда автор, кажется, все-таки несколько упрощает дело (что, впрочем, неизбежно для столь масштабной книги). Скажем, политические взгляды Достоевского Волков характеризует как монархизм, вступая, тем самым, на почву «рокового» вопроса в литературоведении. Волков опирается на мемуары издателя ультраконсервативного журнала «Гражданин» князя В.П. Мещерского, вспоминавшего: «Я не видел на своем веку более полного консерватора, не видел более убежденного и преданного своему знамени монархиста, не видел более фанатичного приверженца самодержавья, чем Достоевский»[14]. Конечно, «Преступление и наказание» (1866), «Идиот» (1868), «Бесы» (1871-1872) и «Братья Карамазовы» (1879-1880) были опубликованы именно в катковском «Русском вестнике», сам Достоевский был редактором «Гражданина» и корреспондентом К.П. Победоносцева, но, вопрос об ультрамонархизме Достоевского все же остается спорным. Известный исследователь Достоевского, Вл. Комарович, был убежден, что не только в кружке братьев Достоевских 1860-х гг. все еще царил гуманизм социальных утопий и «новое» христианство Жорж Санд, Ламенне, Пьера Леру, Оуэна и Фурье, но и позже Достоевский не отошел от мечты о земном рае[15]. Отрекаясь не раз в «Дневнике писателя» и «Записной тетради» от наследства 1840-х гг., Достоевский позже написал «Записки старца Зосимы», где проповедовал миллениум (тысячелетний рай на земле). В связи с этим оказывается спорной и трактовка Достоевского как «православного фундаменталиста»: будь им, он никогда бы не произнес «Пушкинской речи», да и в Оптиной пустыни побывал бы не один раз. Современные исследователи обсуждают глубокую идейную близость Достоевского Николаю Федорову, считавшему «Апокалипсис» Иоанна Богослова условным, педагогическим сочинением и не верившему в вечные муки[16]. Скорее, можно поверить словам друга Достоевского, Вл. Соловьева (тоже далекого от «православного фундаментализма»), писавшего Леонтьеву: «В этом отношении я Вас гораздо больше ценю, нежели Достоевского: для него религия была некоей невиданной страной, в существование которой он горячо верил, а иногда и разглядывал ее очертания в подзорную трубу, но стать на религиозную почву ему не удавалось»[17].
Свое предисловие к «Истории культуры Санкт-Петербурга» историк Яков Гордин завершает так: «книга Волкова – страстное повествование о том, как разум и воля, противостоящие хаосу, реализуются в свободном творческом акте»[18]. Она построена вокруг идеи «петербургской легенды», «петербургского мифа», или «петербургского текста», смысл которого в том, что realibus города претворяется в realiora духовного смысла, становится специфическим «корнем идеализма». Даже на фоне других частей тетралогии этот том отличается блестящим стилем, безусловно являясь жемчужиной в творчестве Волкова.
По очень многим причинам центральной фигурой для Волкова является Шостакович, взаимоотношения которого со Сталиным, с точки зрения культуролога, как нельзя лучше репрезентируют доминанту культурной политики диктатора. Шостакович в сталинское время был, как известно, объектом двух больших разгромных «антиформалистических» кампаний (1936 и 1948 гг.), а в СССР все непонятное, сложное и бесполезное для строительства социализма чаще всего именовалось «формализмом» (от середины 1930-х и до Манежной выставки 1962 г.). Позиция Волкова такова: Шостакович, смолоду бывший скептиком по отношению к советской власти, заключил с ней «вынужденный компромисс», при этом став тайным оппонентом режиму. Ключи к этому противостоянию автор ищет во многих произведениях композитора, превращая свое исследование в настоящий детектив. Верный себе, Волков делает акценты на автобиографических мотивах в произведениях Шостаковича: в опере «Нос» (1927) майор Ковалев – аутсайдер, вынужденно ставший конформистом – это сам автор; в наполненной эротикой опере «Леди Макбет Мценского уезда» (1932) Катерина – первая жена Шостаковича. Переплетение личной и общенародной трагедии легло как в основу Пятой симфонии (1937), написанной в страшной обстановке арестов близких родственников композитора, так и печального Фортепианного квинтета (1940), Второго фортепианного трио (1944), где еврейская мелодия разворачивается в переживание Холокоста. Десятая же симфония (1953) вся целиком посвящена противостоянию художника и диктатора. Расследование приводит автора к выводу, что Седьмая симфония («Ленинградская», 1941) фактически сочинена до фашистского нашествия и только записана в начале блокады, а, следовательно, речь в ней идет вовсе не о войне. С точкой зрения Соломона Волкова, как известно, не раз стремились полемизировать. Однако, знакомство с музыкой Шостаковича не оставляет никаких сомнений в наличии у него мистической интуиции. Ему, подобно Данте, Блэйку, Мильтону, Даниилу Андрееву, было дано увидеть ад и рай. Поэтому невозможно представить себе, чтобы композитор, имевший, кроме того обостренное моральное чувство, историческую чуткость, не отзывался на происходящее. Иначе нельзя объяснить, как, живя в эпоху террора, Шостакович не только не сломался, подобно Маяковскому и Булгакову, но, напротив, сумел стать мировой величиной. Опираясь на детальный анализ партитур, свидетельства современников и самого композитора, автор показывает, что между Шостаковичем и Сталиным шла настоящая война, и на каждый удар власти композитор отвечал новым произведением. Он, как и Ахматова, был «ртом стомильонного народа».
Тем не менее, в красках описывая невероятно циничную политику Сталина по отношению к культуре, оппортунизм, чередование кнута и пряника, на протяжении всех 30 лет «царствования», Волков стремится по возможности выдержать линию летописца. «Сталин постоянно разыгрывал сложные политические шахматные партии, причем часто одновременно на нескольких досках. Деструкцию важного оппонента он рассматривал как ход в такой партии и стремился использовать этот ход для создания выигрышной ситуации»[19]. Описывая метания Сталина, его борьбу между личными пристрастиями и нацеленностью на полезное для «социалистического строительства», автор рисует его двойственной, амбивалентной фигурой. Сталин не вызывает отвращения у автора, а поневоле и у читателя. Когда читаешь то, что Волков пишет о Шостаковиче, вдруг понимаешь: Шостакович ненавидел Сталина, автор – нет. При всем этом он вовсе не нацелен на моральную реабилитацию Сталина, и как нельзя более далек от тех современных историков, что видят в Сталине жертву его приспешников-бюрократов.
Движимый желанием обнять, как сказал когда-то В.В. Розанов, «ангелов и торговлю», автор часто вынужден вместо анализа произведений ограничиться кратким изложением основных его идей. Скажем, Волков пристально всматривается в сложные отношения Ленина и Горького (оказывается, за нелюбовь к себе Горький сполна отомстил Ленину в очерке), ценою крайне беглого обзора горьковской прозы и драматургии. Что о Бродском написано гораздо меньше, чем ожидалось бы, неудивительно. Соломон Волков в своих книгах не повторяется, поэтому интересующимся придется открыть его «Диалоги с Иосифом Бродским». Но некоторые сюжеты разочаровывают. Так, добираясь, наконец, до Солженицына, ждешь гораздо большего, чем несколько скупых абзацев и вкрапления в текст ярких замечаний писателя.
Тексты Волкова несут в себе и еще один внутренний диалог: серьезный, страстный анализ периодически сопровождается иронией. Отмечая художественные достоинства «Ракового корпуса» и «В круге первом», Волков пишет: «Солженицын доказал Западу, что не является ”одноразовым чудом”, обязанным своей шумной известностью лишь политической сенсации вокруг “Одного дня Ивана Денисовича”. Перед искушенными и не доверчивыми западными интеллектуалами внезапно предстал зрелый мастер, работающий в лучших традициях великого русского романа XIX века и занимающий к тому же уникальную и независимую позицию визави враждебного ему коммунистического истеблишмента»[20]. И буквально через пару страниц автор говорит о том, что, оказывается, Солженицын стремился получить Нобелевскую премию, не написав еще ни строчки, завидовал Пастернаку, а затем «избрал целенаправленную стратегию активного лоббирования, увенчавшуюся неслыханным успехом»[21]. Разумеется, Соломон Волков опирается на слова самого писателя, но образ «Толстого XX в.» тут же снижается до микроскопических размеров заурядного честолюбца. Хотя общему впечатлению это не вредит, как не вредили анализу «негативной философии» в «Умозрении и Апокалипсисе» Л.И. Шестова язвительные замечания автора о многолетней зависти Шеллинга к Гегелю.
Во вступлении к «Истории культуры России 20 века» Соломон Волков цитирует слова Бродского, в разговоре с ним «однажды уподобившего свою культурную ситуацию в Нью-Йорке позиции наблюдателя, сидящего на вершине холма, откуда открывается вид на оба его склона»[22]. Может быть, автор и прав, считая, что взгляд на Россию из эмиграции объективнее, чем изнутри. Разумеется, неудивительно, что «снятого», в гегелевском смысле, взгляда не могли иметь эмигранты первой волны, но в России к Сталину и теперь относиться беспристрастно невозможно. И это при том, что, как либерализм, так и марксизм давно и основательно подорвали доверие к себе, почему слухи о смерти идеологии не так уж сильно преувеличены, и человечество давно живет в мире «пост», т.е., по слову Ж.-Ф. Лиотара, не движется вперед или назад, а лишь вспоминает «первозабытое».
Но, кажется, именно этим разумным подходом Волков и остается чужим, по крайней мере, для критики; как в свое время обмолвился Розанов о замалчиваемом критикой Леонтьеве, «страстным письмом с неверно написанным на конверте адресом». Не удержусь, вспомню, что после выхода на Западе мемуаров Шостаковича Волкова прозвали злобным сталинским словечком «отщепенец». Здесь остается только процитировать слова Бродского: «я думаю, что называться отщепенцем – это весьма лестно. Все мы отщепенцы, изгои, да?»[23]. Мне кажется, для понимания культурологической позиции Волкова «на вершине холма» уместно напомнить аристотелевское понятие «золотой середины», следование которой вызвано не равнодушием и безучастностью, а трудным выбором между двумя одинаково ложными крайностями, движением по лезвию бритвы. Можно вспомнить и Гете, говорившего, что между двумя противоположными мнениями лежит не истина, а проблема.




Добавить комментарий