В истории Дома Романовых трудно найти государыню столь же щедрую в любви, как императрица Елизавета Петровна. Эта монархиня умела быть благодарной и награждать по-царски даже за краткий миг доставленного ей счастья. Она спешила делать добро даже своим кратковременным сердечным избранникам и не успокаивалась, пока не устраивала их судьбы.
В Басманном районе Москвы, между Бульварным и Садовым кольцами, расположилась Лялина площадь. Это одна из немногих сохранившихся старых площадей Первопрестольной с характерным клином расходящихся переулков, среди коих есть и Лялин переулок. А вот московский дом Пимена Васильевича Лялина (1699-1754), именем которого названы и площадь и переулок, до нас не дошел (он сгорел во время нашествия французов в 1812 году). Впрочем, и о самом Лялине, полузабытом историческом персонаже, сведений сохранилось немного. Между тем, этот москвич, пусть мимолетно, сумел завоевать сердце самой императрицы Елизаветы Петровны, сделал себе тем самым карьеру и был обласкан Фортуной…
Как ни обворожительна и весела была красавица Елизавета, он, Пимен Лялин, и не дерзал смотреть на сию агустейшую цесаревну с вожделением. А все началось с того, что герцог Карл-Август Гольштейн-Готторпский, епископ Любской епархии (1706-1727), при котором Лялин служил камер-юнкером и толмачом с немецкого, специально приехал в Петербург, чтобы просить августейшей руки цесаревны Елизаветы, что было ею с благодарностью принято. Сей юный придворный от души радовался за своего патрона, ибо его обручение с Елизаветой состоялось, и все вроде бы клонилось к свадьбе.
И разве кто чаял, что венценосный жених всего через несколько недель, а именно в мае 1727 года, умрет от оспы и все расстроится? Впрочем, по словам императрицы Екатерины II, Елизавета “сохранила о [герцоге] трогательные воспоминания и давала тому доказательства всей семье этого принца”. Дщерь Петрова уже более ни с кем и никогда официально не свяжет себя брачными узами, хотя ее сердце, жаждавшее удовольствий и любовных утех, редко будет свободным. После скоропостижной кончины заморского жениха придворный штат Карла-Августа был расформирован, а Пимен перешел на службу к его бывшей невесте Елизавете – гоф-фурьером. То был придворный чин VIII класса, в чьи непосредственные обязанности входило заведовать дворцовой прислугой. Лялина называли еще “самый юный прелестный камер-паж” (хотя, на самом деле, ему было тогда уже далеко за тридцать), но цесаревна обратила на него внимание только после вынужденного расставания со своим бывшим сердечным избранником Алексеем Шубиным (1707-1766), в которого была безумно влюблена и даже посвящала ему безыскусные, но такие искренние любовные вирши. Вот хотя бы такие:
Я не в своей мочи огнь утушить,
Сердцем болею, да чем пособить?
Что всегда разлучно и без тебя скучно-
Легче б тя не знати, нежель так страдати
Всегда по тебе.
Однако, ревнивая к чужому счастью, царствующая (и вдовствующая) императрица Анна Иоанновна удалила его сперва в Ревель, а потом и в Сибирь, на Камчатку, где тот под чужим именем был насильно обвенчан с аборигенкой. Только взойдя на престол, Елизавета Петровна потребовала разыскать и вернуть любимого. «За невинное претерпение» она произвела его в генерал-поручики и в майоры лейб-гвардии Семеновского полка. Но недовольный предпочтением, оказываемым императрицей другому “совместнику” (сопернику), Шубин вышел в отставку и поселился в своём имении. Единственное, чего императрица больше не могла дать прежнему фавориту, - любовь, но дабы искупить перед ним свою вину - пусть и косвенную - пожаловала ему вотчину в Нижегородской губернии и две тысячи крестьян. Также Шубин был награждён орденом Святого Александра Невского. Остаток жизни этот бывший фаворит провел в подаренном ему поместье во Владимирской губернии: жил анахоретом и все никак не мог пережить отставку на романическом фронте.
Данные о непосредственном знакомстве героев нашего повествования разнятся. Согласно уверениям секретаря дипмиссии Саксонии в Петербурге немецкого историка Георга Адольфа Вильгельма фон Гельбига (1757-1813), Елизавета будто бы пленилась Лялиным, заприметив его на променаде по столичному бульвару, и он настолько запал ей в душу, что этот “молодой русский красавец из низшего класса народа остался у нее в услужении”. И якобы “[через два дня после ее воцарения] она сделала его камергером, подарила поместья и предоставила значительные доходы. Он ежедневно бывал в обществе этой государыни.” Надо заметить, что сведения Гельбига по большей части не точны: никаким простолюдином Пимен не был, но являлся отпрыском обедневшего, но старинного рода, восходившего к боярину великого князя Московского Василия I Дмитриевича (1371-1425) Михайле Лялину, погибшему в бою на реке Смядве в 1409 году. Потомство же этого своего давнего пращура рано разделилось на несколько ветвей, кои владели поместьями в Новгородской, Псковской, Вологодской, Владимирской, Харьковской, Херсонской губерниях. Известный специалист по генеалогии Леонид Савелов считает, что «Лялины уже в ХIVв. ходили в московских боярах». И даже позднее, когда этот род «вывелся», веточки его уцелели в XVIII веке и упоминались как чиновники. Сомнительно и утверждение Гельбига о том, что наш герой будто бы получил от монархини камергерский ключ сразу же после вступления ее на престол, хотя на самом деле он стал придворным столь высокого ранга лишь спустя десятилетие.
Впрочем, брошюра Георга Гельбига под титулом “Russische Günstlinge” вышла в свет в 1809 году (а в русском переводе Василия Бильбасова только в 1900 году), так что быть живым свидетелем произошедшего сей сочинитель никак не мог, тем более что сам впервые очутился в Московии только в 1787 году. Да и веры его словам в России особо не было, о чем поведала в своих мемуарах Екатерина II, назвавшая Гельбига “ничтожным” и прямо обвинившая в русофобии: “Это истый враг русского имени и меня лично... [Он] пишет [о России] все дурное, что только можно себе представить и даже останавливает на улице прохожих и говорит в этом духе”. Осведомленные современники, чью версию резюмировал впоследствии авторитетный польский историк и литератор Казимир Валишевский (1849-1835), сказывали иначе. Нечаянный роман начался с того, что наш герой, одетый в щеголеватый матросский костюм, катал Елизавету на барке по Москве-реке и при этом лихо греб веслами, а та поощрительно смеялась. Решительно все биографы сходятся в одном: он впечатлил ее своей отменной статью, ибо был мужчиной видным, громадного роста, с отлично развитой мускулатурой, что вполне отвечало пристрастиям августейшей Нимфы. Говорили также, что он впечатлил цесаревну своим красивым бархатным басом, что неизменно оказывало на эту меломанку магическое действие. А если прибавить к сему подчеркнутую галантность и искусство политеса Лялина, затверженные им еще при Дворе в Голштинии, станет понятна его особая притягательность для придворных дам (которые, кстати, тайно или явно, завидовали Ее Высочеству). Он и впрямь обладал редкой обольстительностью.
Да что там дамы: перед его вызывающе бравым видом не могли устоять даже самые крепкие и искушенные царедворцы. Достаточно сказать, что всесильный в свое время герцог Курляндский Эрнст Иоганн Бирон (1690-1772), превыше всего ценивший в подчиненных отменную выправку, добился дополнительного ассигнования на содержание Двора цесаревны, с легкой руки Анны Иоанновны весьма и весьма небогатого. Заметим, что Двор Елизаветы в годину царствования ее кузины был хоть и беден, но очень многочислен: камер-юнкер, четыре камердинера, два фурьера, девять фрейлин, четыре гувернантки, а еще музыканты, песенники и огромное количество лакеев. Придворные звания Елизавета давала по своему усмотрению. Лялин числился при ней фурьером.
К поставцу цесаревны ему, “окромя банкетов и приказов”, полагались, между прочим, две кружки пива, одна кружка водки и одна кружка вина в неделю. Елизавета иногда называла его полушутя “и служивым, и услужливым”, положив тем самым начало его грядущей карьере. Таковых аттестовали тогда “комнатными” поддаными, имея в виду их близость к царственной особе. Но “комнатными” называли не только слуг в монарших чертогах. Лялин, вскорости был причислен к так называемой “гребецкой команде”. Произошло это опять-таки по настоянию ее царственной кузины императрицы Анны Иоанновны, которая в 1732 году распорядилась: гребцам состоять в ведении Елизаветы и именовать их «Комнатными Ея Высочества гребцами». Такие команды «наряжались» как для выездов Двора, так и для встреч представителей европейской знати., для чего использовали яхты, барки, баржи, отделанные позолотой и бархатом. А Лялин ходил у цесаревны любимым лодочным вожатым.
Елизавета с юности пристрастилась к охоте, выездам на природу, катанию на лодках. И все эти пристрастия она пронесла через всю свою жизнь. Надо сказать, что она обожала разного рода водные путешествия.
Имели место катания по Москве-реке, по текучим озерам и водоемам Петербурга. Государыня повелела: “Каждое первое мая, в день весны, приезжать в Екатерингоф (именно там проходили традиционные гуляния в день весны”) и cамозабвенно каталась по каналу”. Количество парадных выездов и водных феерий в то время неуклонно множилось. И все эти царственные прогулки обслуживались специальной командой гребцов. Было бы ошибкой считать их “разжалованными в матросы” за провинность или в наказание. Напротив, “придворные гребцы” были тогда в чести и мало общего имели с морским ведомством, кроме разового для их обмундирования пошива. Униформа у гребцов Ее Высочества была самая импозантная, если не сказать роскошная. Им полагались, к примеру, зелёные суконные бостроги со штанами, а также триповые (плюшевые) бостроги и штаны. Парадными головными уборами были колпачки из чёрного бархата, украшенные золотыми кистями.
А ещё гребцам выдавали зелёные суконные карпучи — шапки с отворачивающимися козырями спереди и сзади с подкладкой из красного стамеда (шерстяной ткани). Гардероб такого гребца включал в себя две рубахи из голландского полотна; три рубахи из макарьевского полотна; три кисейных и один чёрный бархатный галстук; по паре сапог и башмаков; две пары чулок — гарусные красные и шерстяные васильковые; кафтаны из парусины, подбитые сермяжным сукном, для защиты от непогоды. Елизавета существенно повысила им и жалование — до 38 р. 10 коп. в год (для сравнения: опытные русские мастеровые и работные люди получали тогда до 20 р. в год). Было также существенно улучшено и мундирное обеспечение.
Когда Дщерь Петрова взошла на российский престол, на Лялина словно пролился дождь чинов, наград и званий. В 1743 году он получил звание подполковника (по другим данным, ротмистра, что соответствовало капитану пехоты) и был в числе других пяти соискателей пожалован в камер-юнкеры (чин V класса, бригадир) с 800 р. жалования. Но в окружении императрицы Пимен Лялин считался «человеком случайным» – он не был богат и родовит, не имел влиятельных знакомых. И все же, попав в такой «случай», Лялин получил поместья в Новгородской, Владимирской и Котромской губерниях. а в Первопрестольной – усадьбу, для чего Елизавета переквалифицировала ротмистра в камердинера и выдала ему в Яковлевском переулке дом с землей.
Примечательно, что он был внесен в VI и II части книги дворян Владимирской губернии. Но что до амура с “любострастной” царственной дамой, то здесь он потерпел полное фиаско и сыграл в ее жизни роль всего лишь мотылька-однодневки по сравнению с новыми соперниками, то и дело владевшими ее сердцем. Ведь она не была затворницей и не могла прожить и дня без состояния влюбленности. Чувствовать себя любимой, нравиться мужчинам Елизавета желала и умела. С самой юности она заводила многочисленные романы, причем далеко не всегда с влиятельными и блестящими мужчинами.
Среди таковых еще в 1731 году выделился низкорожденный украинский казак Алексей Разумовский (1709-1771). По словам Екатерины II, этот новый и самый долговременный фаворит Елизаветы был “одним из красивейших мужчин, которых она встречала”. Цесаревна познакомилась с ним практически одновременно с Пименом. Обладатель великолепного по силе и звучности голоса, он буквально восхищал монархиню, солируя в ее Придворной капелле, а затем добился и самых вершин в иерархии чинов. Он управлял имениями, получил титул графа, стал генерал-фельдмаршалом и т.д.
Согласно легенде, 24 ноября 1742 года в Знаменской церкви подмосковного села Перово (рядом с дворцовым селом Покровское-Рубцово) состоялось их тайное венчание. Однако, несмотря на полученные власть и привилегии, Разумовский всегда оставался скромным, сдержанным, безобидным и добродетельным человеком. А вот Пимен Васильевич кротким вовсе не был и отличался раскрепощенностью, весьма свободной манерой держаться, что производило крайне приятное впечатление. Не будучи родовит и богат и не имея связей при Дворе, он, тем не менее, сумел найти общий язык с большинством царедворцев, не принадлежа ни к одной партии.
Но многие корили его за невоздержанность в языке. Однако он не считался опасным волнодумцем, да и простачком никак не был. Главное же, был уверен, что от происков недоброхотов надежно защищен своей августейшей госпожой, расставание с которой переживал очень остро. Впрочем, благосклонная к нему “веселая царица” до конца жизни не оставляла его своей милостью, она и сама знала наверняка, что всегда может на него положиться. Тем более, что Лялин чуть ди не ежедневно бывал в обществе государыни.
Монархиня была охоча устраивать судьбы своих даже бывших фаворитов, пусть и мимолетных. Сразу же после тайного венчания императрицы и Разумовского в 1742 году матримониальными мечтаниями озаботился и наш Лялин, по-видимому, не без участия этой своей коронованной свахи. Здесь надо иметь в виду, что Ее Величество питала к Лифляндии очевидную слабость, ибо знала, что именно оттуда проиcходила ее мать, латышка Екатерина I; родом из тех краев были и несколько ее ближайших гувернанток, приставленных к ней сызмальства; а “мастером немецкого языка” был полиглот, камер-юнкер и асессор Кристиан Бернард Глик (1680-1735), уроженец лифляндского Мариенбурга. Это благодаря ему Елизавета вполне свободно говорила по-немецки, языке весьма распространенном в Лифляндии. Да и наш герой владел немецким, как родным.
Что до Лялина, то он долго ходил в бобылях, так что к моменту женитьбы ему уже перевалило за сорок. А вот его избраннице (между прочим, ровеснице Елизаветы и Разумовского) минуло всего тридцать два года. Сведений о ней, однако, немного. Протестантка, родом из Лифляндии, она приняла православие и была крещена под именем Дарьи Матвеевны Лялиной (1709-1756), по-видимому, в честь матери Пимена Васильевича, ее полной тезки.
Надо иметь в виду, что тогда одной из важнейших государственных проблем в духовной сфере была поддержка принятия иноверцами православия, подчеркивалась осознанность и искренность смены веры. Может статься, что она бывала и при Дворе, где правила бал “веселая” Елизавета. Общались ли они? Поминали ли по-своему близкую обоим Лифляндию? А коли так, не монархиня ли представила ей только что отставленного фаворита? Забегая вперед, отметим, что Дарья Лялина, как указано на ее могильной плите, “жена камергера и кавалера” неотлучно находилась по большей части при муже в Москве. Она переживет его только на два года. А свои заключительные дни сия вдовая кавалерша проведет в северной столице, куда после кончины супруга и переедет. Последнее свое пристанище она найдет в Александро-Невской Лавре, на Лазаревском кладбище Петербурга.
Но вернемся к Пимену Лялину, чье возвышение стало костью в горле многих придворных, обойденных наградами при Елизавете. Рассказ о таких недовольных содержится в бойком киносериале “Гардемарины, вперед!” (1987), поставленном режиссером Светланой Дружининой по роману Нины Соротокиной “Трое из навигацкой школы”. Об этом свидетельствуют и материалы так называемого “Лопухинского дела” (1743). Так, согласно одному “всеподданейшему извету”, подполковник Иван Лопухин (1720-1747) произнес будто бы такие кощунственные слова: “Был я при Дворе принцессы Анны [Леопольдовны] камер-юнкером в ранге полковничьем, а теперь определен в подполковники, и то не знаю куда”. И далее презрительно о Лялине, будто бы это он был вольным или невольным виновником и причиной всех злоключений этого ранее преуспевающего дворянского семейства. Не желали Лопухины мириться с тем, что выскочка “из матросов” произведен в важные чины. В ход шли самые “возмутительные” намеки: прежние любовные утехи Лялина с “рассеянной” государыней были названы “скверным делом“ (то есть делом явно гадким, недостойным, непристойным) – чем не оскорбление Величества! Сам же Лялин у них презрительно назван “канальей”, что в русском языке XVIII века означало “чернь, сброд, подлый люд.”
А. согласно “Cловарю” Владимира Даля так аттестовали “бездельника, продувного мошенника, пройдоху” и.т.д. Очевидно, однако, что Лопухины поносили нашего героя совершенно облыжно, ибо люди посвященные неизменно называли его трудягой и, что еще важнее, “человеком неподкупной чести”. Участь сего “бунташного” cемейства была предрешена, о чем свидетельствует расправа над “кощунницей” статс-дамой Натальей Лопухиной (1699-1763). Елизаветинские каты учинили ей резекцию большей части языка. “Кому надо язык? – кричал один из них со смехом, обращаясь к народу, - Купите, дешево продам!”. А потом ее обрекли на суровое двадцатилетнее наказание в Селенгинске, что в Бурятии. Вообще, все фигуранты этого некогда нашумевшего “дела”, включая главу семейства Степана Лопухина (1685-1748), были также лишены языков, а потом биты кнутом, жестоко пытаны и сосланы вон в непролазную сибирскую глухомань, куда даже Макар телят не гонял.
Тем временем Пимен Васильевич подвизался на государственной службе, на коей пребывал более 35 лет. Ведь в то время отсутствовало принципиальное различие между органами государственной власти и органами управления частными делами Государыни и ее ближайших сановников, таким образом, придворные чины ведали различными отраслями государственного управления. Брался он и за самые дерзкие задания, проявляя при этом завидное радение.
Так, ему доверили не самое благородное дело - заниматься сыском беглых крестьян. И он показал себя крепким организатором и службистом, оставив о себе мнение как о грозе-начальнике, исполнительном, добросовестном, но весьма суровом. Особенно ярко проявил он себя на Брянщине, где возглавил следствие по делу мятежных крепостных, восставших против их владельца, помещика и коллежского асессора Афанасия Гончарова (1693-1788), одного из богатейших людей России, чье состояние к концу жизни оценивалось в 6 млн руб. серебром.
Елизавета Петровна ему открыто и щедро покровительствовала. Душевладелец-богатей, он владел примерно семьюдесятью селениями в четырёх губерниях, а также железоделательными и чугунолитейными заводами в Калужской и Брянской губерниях, а также полотняной и бумажной фабриками, одними из лучших в России. Согласно поданной на них жалобе, смутьяны числом восьмисот человек (данные разнятся) отняли у усмирявших их солдат пушки и, вооружившись бердышами и “какими-то невероятными ножами”, побили людей Гончарова и до того свирепо, что учинились жестокие смертоубийства. Только благодаря слаженным действиям императорской артиллерии восстание удалось утушить.
Следствие над сими беглыми вел именно подполковник Лялин. По словам историка Сергея Соловьева, “Лялин спрашивал, как с такими [ослушниками] поступать: или пытать их или “пристращивать батогами”. Сам же подполковник был более склонен к наказаниям жестоким. Хотя названная экзекуция обычно не влекла за собой смертельного исхода, ею могли припугнуть любого. Как можно было не страшиться столь варварской расправы, что уступала в зверстве разве только колесу для пыток? Осужденного укладывали на пол лицом вниз, обнажая спину, в то время как двое мужчин садились на него, один держал его за руки, другой - за ноги. Затем двое мужчин начинали бить жертву по спине, заменяя батоги, если они ломались, до тех пор, пока не получали приказ остановиться. Начальство было довольно Лялиным еще и потому, что он был предельно скрупулезен и точен, когда составлил для Сената весьма обстоятельные и искусные экстракты, где, не скупясь на детали, излагал проступки и вины каждого проштрафившегося беглеца.
После нескольких лет службы на благо Родины наш герой, наконец, удалился на покой. Известно, что Елизавета Петровна в 1747 году без какой-либо мотивировки пожаловала ему “без расписки” солидную по тем временам сумму - 2000 р., Получил он также Новгородские, Московские и Костромские имения. Кроме того, Лялину с супругой были дарованы знатные угодья в Юрьевском уезде Владимирской губернии, включавшие 14 селений с 2035 душами, среди которых значились и село Лычево (ныне в Ивановской обл.), Рябинино, Ключи и др. Их весьма усердно обустраивали.
Обращает на себя внимание его поселок Дубки в Переславском районе Ярославской области. Место для строительства этой усадьбы выбиралось самое красивое, она располагалась при слиянии рек. Ока, Тошма и Нерль, все между Перееславлем и станцией Рязанцево. В реках находилось огромное количество ключей и родников, так что температура воды там редко поднималась выше +7◦C. Потому-то барин Лялин рассудил за благо непременно засыпать эти ключи. Правда, после смерти хозяина на этом месте осталась лишь небольшая деревенька, вокруг этого поселка на сравнительно небольшой территории расположились около десяти сёл, деревень и хуторов, и почти все по берегам рек. К сему надобно прибавить целый список земель незаселённых, т.е. пустошей.
Помимо объезда провинциальных имений Пимен зачастил и в Москву, где владел разом несколькими усадьбами. На месте одной из них (Малый Харитоньевский пер.д.10, стр.1) разместился ныне московский Дворец бракосочетания № 1, называемый в народе «Грибоедовский». С XVI - первой половине XVIII вв. там располагалась территория с земляным городом и приходом церкви Харитония Исповедника в Огородной слободе. Более раннее ее название — улица Притыкина — по-видимому, было дано по домовладельцу, чья фамилия происходила от прозвищного имени Притыка.
Супруги Лялины стали здесь домовладельцами с 1749 года. Другой их особняк стоял на месте бывших огородов Барашевской слободы ((Бараши — царские шатёрничие), а ранее назывался Яковлевский, по ближней (в Яковоапостольском переулке) церкви Иакова Апостола, что в Казённой хлебной слободе, действовавшей с начала XVII века. Примечательно, что в 1676 году на ее месте был возведен первый каменный храм, а с середины XVIII века там хранится частица мощей апостола Иакова, переданная храму из Компостельского собора (Испания), где находятся мощи этого святого. В XIX веке храм был перестроен наново: в 1806 году к церкви были добавлены прямоугольные приделы,а в 1831 году архитектор Василий Балашов вновь перестроил здание. В 1844 году были перестроены пределы и обновлена трапезная. А в 1883 году по проекту архитектора Михаила Фидлера к церкви была пристроена паперть.
1 августа 1751 года Пимен Васильевич был высочайше пожалован в камергеры (чин VI класса, коллежский советник, полковник) с окладом 1000 р.. Сама монархиня так определила обязанности камергеров: те должны были дежурить при императорском величестве «по сколько указано будет» и «во время дежурства никуда не отлучаться». В церемониальные дни камергер носил за императрицей шлейф и стоял у трона «пока Ея Величество изволят пить спросить». Сии царедворцы хранили и ключи от дворцовых комнат и даже от личных покоев монарха.
В годину царствования Елизаветы при Дворе наличествовали 17 камергеров. Долгое время главной отличительной особенностью камергера, как, впрочем, и обер-камергера (высшего чина Императорского двора, и был этот огромный ключ — символический и церемониальный атрибут должности. Долгое время такие ключи изготавливались из золота и стоили немало — около 500 р. Согласно статуту, камергеры должны были носить свои ключи на голубой наградной ленте ордена Св. Андрея Первозванного на левой фалде кафтана или мундира возле карманного клапана, а обер-камергеры — на золотом шнуре с кистями у правого карманного клапана. Несмотря на заимствование термина (нем.яз:.“командир комнат”), сия камергерская должность издавна существовала при Дворе русских царей: «стряпчий с ключом», «комнатный стольник», «спальник» назначались из наиболее знатных и преданных людей.
А немногим позднее, 5 сентября 1751, Лялин стал кавалером третьего по значению российского ордена Св. Александра Невского. Надо отметить, что за последующие полтора столетия статут сего ордена уточнялся и дополнялся, но в главном оставался неизменен. Награда имела единственную степень, а заслуги, за которые она могла быть пожалована, никакими документами не определялись и вручались исключительно по велению и хотению самой императрицы. В царствование Елизаветы сию почетную регалию получили 184 кавалера. Неизменными оставались и знаки ордена: алая шелковая лента, серебряная звезда и золотой крест с красными лучами, между которыми воспаряли золотые императорские орлы. Поначалу лучи делали из «рубинового» стекла, а позднее стали покрывать красной эмалью. В центре лицевой стороны креста располагался медальон с изображением Александра Невского, на обороте – вензель “SA” то есть “святой Александр”, под княжеской короной. Такой же вензель украшал середину серебряной звезды ордена, а вокруг него располагался орденский девиз: «За труды и Отечество».
Пиком карьеры Лялина стали заключительные годы его жизни, что, в частности, отражено в “Списке первых пяти классов придворных чинов, обретающихся в Санкт-Петербурге” (1758), изданных в свет уже после кончины нашего героя. Здесь он, минуя очередной V-й классный чин, значится уже генерал-майором, а его благоверная фигурирует как “Ея Императорского Величества действительного камергера (IV класса, шаутбенахта) Пимена Лялина жена-вдова Дарья, Матвеева дочь”. Он именовался "действительным", т. е. служившим при Дворе и получил это звание исключительно в качестве почетного пожалования, что помимо всего прочего означало право доступа к монаршей особе. Поскольку эта должность требовала умения управлять людьми и налаживать связи, обер-камергеры были зачастую ключевыми фигурами в социальной структуре своего времени. Они относились к первым (высшим) чинам Императорского двора и титуловались не иначе, как «Ваше Высокопревосходительство».
Знак сей должности — обер-камергерский ключ — отличался от камергерского ключа тем, что на нём фигура орла и короны над его головами украшались бриллиантами. Носился обер-камергерский ключ на золотом шнуре с кистями у правого карманного клапана (в отличие от камергеров, носивших свой ключ на левом бедре). Из сего проистекает, что деятельность нашего героя отнюдь не исчерпывалась частной жизнью в Первопрестольной и в родовых имениях: он пригодился и при монаршем Дворе в Петербурге, где был под постоянным приглядом своей нежной и великодержавной госпожи.
В 1754 году Пимена Лялина не стало. А 7 апреля 1755 года было высочайше предписано выделить Дарье Матвеевне Лялиной “указанную часть из недвижимых имений умершего мужа”. Разделом его многочисленных имений вотчинная коллегия занималась около двух лет. Часть поместий получили ближние родственники ещё в 1755 г. Но с этим не согласилась племянница жены, Наталья Аничкова (вдова капитана флота Ивана Аничкова-Меньшого), петербургская дворянка,. Если бы не эта дама, энергичная и ушлая, возможно, некоторые Лялины так бы и не узнали, что их родственник Пимен умер богатым и бездетным. Дело дошло до того, что Сенату пришлось создавать специальную комиссию по определению ближайшей родни покойного. Положение усугубилось тем, что родословная нашего героя так и не сыскалась. Пришлось допросить всех наличествовавших Юрьевских-Лялиных, причем самым подробным и обстоятельным образом. Тогда-то выяснилось, что род так размножился, что расселился по разным городам. Имений Лялина на всех не хватило, и все же в 1761 году все его владения, включая и самые мелкие, были полностью распределены.
“Куда ни шагнёшь в Москве - всюду тайны, истории и любовь”,- писал один восхищенный современник. Неудивительно, что наш герой часто наезжал и в эти свои московские пенаты, некогда подаренные ему императрицей. Однако еще при ее жизни благодетельная Елизавета, так щедро когда-то его одарившая и возвысившая, решила увековечить имя Лялина. Памятуя о том, что на Руси существовал давний обычай называть улицы городов по имени проживавших на них домовладельцев, монархиня повелела аттестовать район в Москве именем своего фаворита - Лялиной площадью (самой маленькой площадью столицы) и Лялиным переулком. Как чудно порой шутит история: иногда знаменитый полководец или учёный, прославивший своим именем Отечаство, не удостаивается памяти в названиях улиц или площадей, а случается, что имя какого-то совершенно ничем не примечательного человека, о котором мы почти ничего не знаем, бывает увековечено на карте столицы.
Правда, по московским меркам, площадь эта совсем уж крошечная (600 метров), на продуваемые всеми ветрами столичные площадные пространства не похожая, скорее — это перекресток. Тем не менее, она почитается архитектурной жемчужиной столицы. Доцент Елена Сариева отметила: “Люблю такое, лишенное пафоса, где обитает душа былой Москвы, вызывающая ностальгические воспоминания о «кулишках» и «вражках» со старинными монастырями и россыпями церквей; где дворики, спрятавшиеся в глубине переулков, живут обособленной жизнью, а люди не носятся, сломя голову”. Здесь сходятся пять дорог: две половины Лялиного переулка, Барашевский, клином идут Большой и Малый Казенные. Кстати, и сегодня местные жители называют площадь коротко и красиво — «лялька». Это такая своеобразная московская площадь Пяти углов, аналог петербургской. “Опять же, маленькая уютная площадка, маленький уютный московский перекресток”, — определила краевед Светлана Костина. Сюда же когда-то примыкала и снесенная при прокладке Калининского проспекта Собачья площадка, которую так долго оплакивали жители Арбата.
Со всех сторон площадь Лялина окружена историческими зданиями. Хотя сама по себе она миниатюрна, вокруг есть на что посмотреть: ведь это район старой Москвы с доходными домами и старинными усадьбами. Досадно, конечно, что в войну 1812 года почти все современные Лялину дома погибли во время пожара. Так что приходится довольствоваться более поздними строениями. Каждый такой дом - бывший доходный.
А коли есть доходные дома, имеются и парадные. Здесь мы видим здание 1830-х годов, старую усадьбу и несколько доходных домов по соседству. Они-то и формируют сию уютную московскую площадь. А где хочется посидеть, так это в кафе на углу площади «Булошная» (№ 7/2, корп.1), названное так на старомосковский манер. Сквозь большие окна видно, что это место очень популярно среди москвитян и зевак. А в одном из окон можно полюбоваться красивой инсталляцией из кукол. Площадь постепенно застраивалась малоэтажными зданиями. Сохранившийся ампирный дом купца Семена Попова на углу Лялина и Барашевского переулков был выстроен только в 1838 году. В 1900е гг. этот регион активно застраивался доходными домами в стиле модерн, но большинство зданий на площади осталось двух-трёхэтажными и по сей день. Одним из примечательных строений Лялиного переулка является бывший доходный дом книгоиздателя и просветителя Александры Панафидиной. Этот комплекс состоял из двух зданий (№ 11/13) и был построен в начале XX века по проекту зодчего Клавдия Розенкампфа. Здесь же размещалась и типография (основана в 1885 г.), где печатались научно-популярные книги для юношества, однотомные недорогие издания классиков русской и зарубежной художественной литературы. В этом же комплексе находился и оптовый склад издательства.
Обращает на себя внимание здание с тремя шишкообразными куполами со слуховыми окнами (Лялин переулок д.7/2). Эта, равно как и другие городские усадьбы подобного типа, получила статус объекта культурного наследия федерального значения. Фасады украшают две лепные женские маски, известные как самые большие Лорелеи в Москве. Восходившая к балладе немецкого поэта Клеменса Брентано (1778-1842), Лорелея была осмыслена им как одна из дев Рейна, что своим прекрасным пением заманивала мореплавателей на скалы, словно сирена из древнегреческой мифологии. Нимфа на скале, она расчёсывала свои золотистые волосы и увлекала корабли на скалы. Здание было построено в 1902 году мастером московского модерна Павлом Заруцким для строительного подрядчика Николая Силуанова. № 9 — доходный дом Ивана Шагурина (1896, архитектор Адольф Нетыкса). Простой трёхчастный фасад здания оформлен разнообразными декоративными деталями в стилистике модерна: рисунок розеток между окон первого и второго этажей заимствован из мотивов традиционной русской резьбы по дереву; окно второго этажа центрального эркера завершено женской маской в обрамлении извивающихся стеблей цветов и завитков спиралей, горизонтальная тяга четвёртого этажа оформлена орнаментом из сердечек.
В числе доходных домов на Лялиной площади находятся: № 6 (архитектор Сергей Власьев совместно с Сергеем Воскресенским) (1910); № 8 образчик рационального модерна, построенный известным архитектором Ольгердом Пиотровичем для Веры и Матвея фон-Штейнов (1911). Его фасады оформлены в характерной для творчества этого скульптора манере — покрытые кабанчиком плоскости ритмически прорезаны оконными проёмами, вокруг которых помещён штукатурный декор. К слову, архитектор Пиотрович построил здесь еще один дом, украшенный лепниной с масками-маскаронами.
Особняки, доходные дома уже в начале XX в. производили сильное впечатление: № 8, стр. 2 — доходный дом купца Петра Такке (1905—1912), архитектор Cергей Воскресенский, характерный пример доходного строительства начала XX века. По ряду признаков (пилястровое оформление входа, аттиковое завершение, рустованные стены, замковые камни над окнами первого этажа) здание может быть отнесено к неоклассическому направлению. № 22 — доходный дом Константина Пчелина (1914) (архитектор Леонид Стеженский); № 18 — особняк XIX века (1844; перестроен инженером Никитой Лазаревым в 1904 и 1908 годах); № 20 — доходный дом (1911), (архитектор Иван Кондратенко) и др.
Среди именитых жильцов и хозяев домовладений артиллерии полковник Николай Пушкин (1748-1821), дядя поэта; изобретатель дуговой лампы Павел Яблочков (1847-1894); в 1809-1812 г. на площади жил с семьёй вольноотпущенник Пётр Погодин (1849-1927), отец историка Михаила Погодина (1800-1875). И вот уже в наше время здесь проживали скульптор Георгий Мотовилов (1892-1963) , зоолог и биолог Владимир Соколов (1928-1998), пианист Давид Ашкенази (1915-1997) и др.
Ныне многое здесь как-то обветшало: исчезли капители, нет лепного декора — всё куда-то постепенно отвалилось. Оно и понятно: в советское время в бывших “буржуйских” особняках находились набитые жильцами коммунальные квартиры, и содержались они не самым надлежащим образом, и тем не менее, и переулок и площадь имени Лялина оказались весьма кинематографичны. Именно здесь проходили съемки картины “Уроки в конце весны” (1990), а также одной из батальных сцен фильма «Штемп» (1991), новеллы «Место встречи изменить нельзя» из детского киножурнала «Ералаш» (1992). В переулке же снимался фильм «Ретро втроем» (1998), действие которого разворачивается в доме на Лялиной площади (1998).
Ласкающее слух наименование Лялин называют подчас ““милейшим”, если не “легкомысленным“. Его сопрягают разве что с малыми детьми (вроде нежной Ляльки), хотя на самом деле, виновником торжества выступил здесь именно он, наш везунчик Пимен Васильевич.
Названные в его честь площадь и переулок отражают характерную традицию российской топонимики: домовладельцем, в честь коего их иногда нарекали, мог либо быть, либо не быть сколько-нибудь выдающимся человеком, так что особой доблести здесь не было. Большинство иториков сходятся на том, что Лялин не оставил особого следа в истории и увековечен исключительно усилиями своей царственной покровительницы. Более того, некоторые сетуют, что на площади, вроде бы названной в память о романе императрицы, отсутствует даже элементарная скамейка для влюбленных. Что до его впечатляющей дворцовой карьеры (от гоф-фурьера до действительного камергера), то все здесь шло весьма и весьма гладко. Он был также любим и уважаем многочисленной родней, и считается, что из чиновничьего забвения род Юрьевских-Лялиных вывел именно Пимен Васильевич. Так что можно сказать, что он стал подлинным баловнем Фортуны.
Мнилось, что то была его, Лялина Фортуна, согретая благодатной и щедрой монархиней. И память оживляет вдруг катание на барке по Москве-реке, когда он, паж гребецкой команды, играя всеми мускулами, мчит во всю прыть заразительно смеющуюся Елизавету.




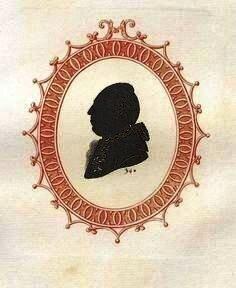




Добавить комментарий